Дания Жанси
Homo Deus
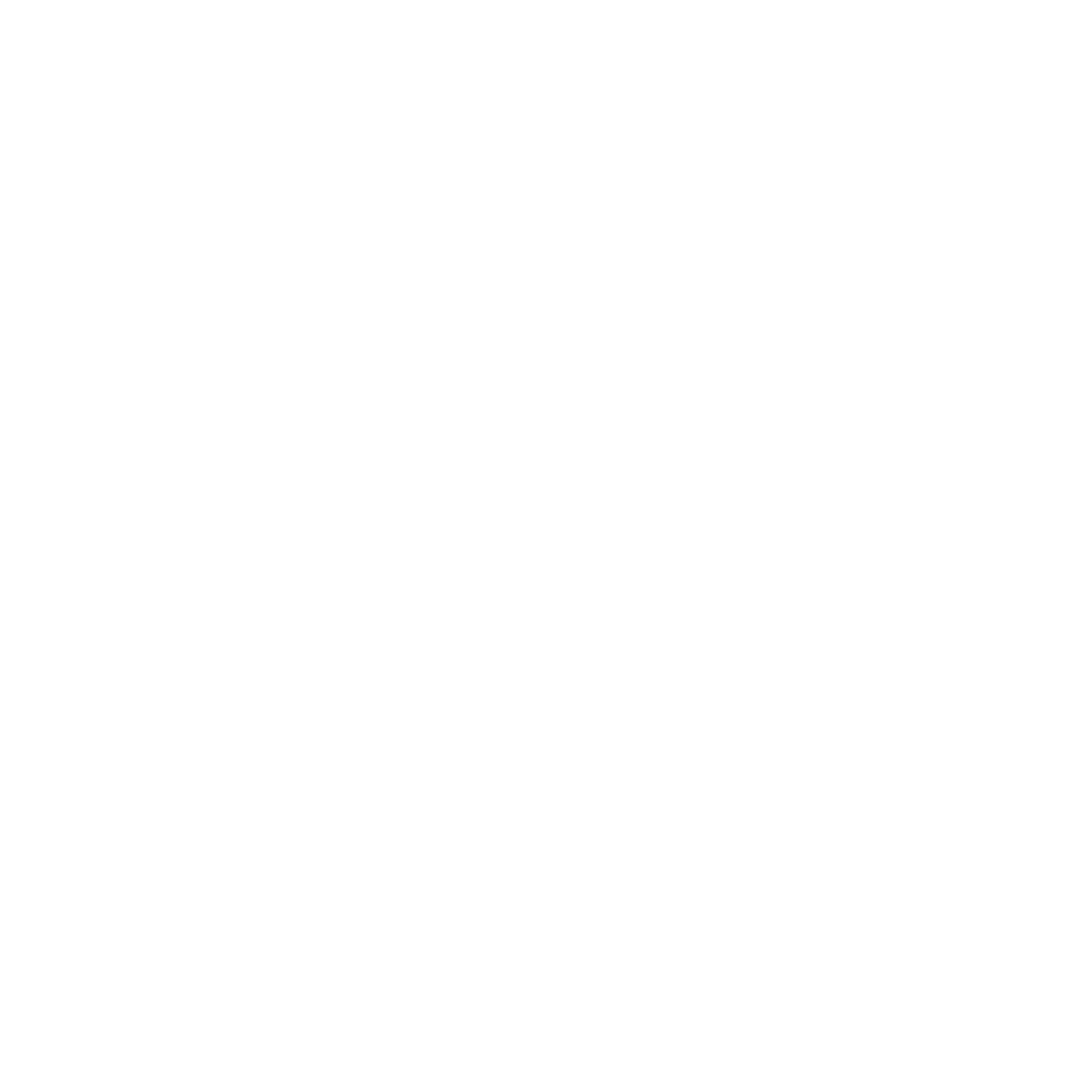
Литературный журнал «Нева», июль 2020
Столько надо успеть деду Макару за световой день. Побегать по лесу, подтянуться на турнике, окунуться в озеро (если лед, то пробить лунку), набрать воды из ключа; наварганить лепёшек и кашу с сушеными овощами или суп, а если лето, то собрать свежий урожай и заготовить припасов; прибраться наскоро и узнать чего нового из книг. А как начнет темнеть, подойти к дубу на полянке у дома, обнять вековой морщинистый ствол, замереть на пару минут без дела, да идти спать. Когда зима и ночь, накрыться одеялом или двумя, лечь поближе к теплой печке — сам собрал ее больше полувека назад, никогда не подводит, родная. И дрова всегда наготовлены, и исправно сменяется изумрудный, охровый и белый на деревьях вокруг, слава Богу, и людей поблизости не видать. Только кузнечики трещат, да какое животное пробежит изредка — далеко в чащобу забралась изба Макара.
Много дел — мало времени. Еще больше стараться приходится, когда наведывается особенная гостья из города. Тогда Макар про спорт и учебу не вспоминает, а работу, запланированную на день, переделывает до обеда. Сидит, ждёт на крылечке, и в снег тоже, наматывает длинную белую бороду на тонкую шершавую ладонь.
Вот она вырывается из чащи на машине, каждый год все более диковинной и обтекаемой, выпрыгивает, бежит по полянке — легкая, румяная, весенняя. Встанет у крылечка, а вокруг радуется воздух, даже если тучи или метель и солнца быть не может. Макар смотрит немного на гостью, тоже улыбаясь, глубже впечатывая давние морщины вокруг рта и глаз, потом зовёт ее на озеро или в дом.
Старик называет ее Аннушкой. Сегодня солнечно и зелено, сидят они у воды, как всегда, то говорят о чем-то долго, то молчат. Макар кидает круглые камушки по облачной глади озера, поглядывает на девушку; та аккуратно сидит на иссиня-белой подстилке, теребит в руках поблескивающую палочку, смотрит то на старика, то на деревья вдали. Уставать или хандрить, не быть веселой и общительной стыдно — но в своем секретном местечке она отключает все гаджеты, обмениваться энергией хочет только с природой и диковинным другом. В дремучем лесу, посреди опасных бактерий — коллеги и соседи посчитали бы бесстрашной или безумной, но не узнают. Лишь мерцает озеро и ласково улыбается ее мудрый друг: смотрит подолгу, потянет к ее плечу руку, но вовремя одумается и отдернет, возьмет еще один камушек с берега.
Рано или поздно разговор их сводится к вечному, Макар отчего-то закипает:
— Это тогда мы нашу страну слили к чертям! Где свобода личности, я спрашиваю? Где экология? Где равенство? В ауте, полном!
Девушка устало закатывает глаза к небу, прикрывает веки рукой, шепчет:
— Давай не будем. Смотри, какие облака красивые.
— Аннушка, скажи, ну разве нет? В полном же ауте страна, планета в ауте!
— Я действительно не хочу… Но хорошо, если смотреть на факты, то никогда еще продолжительность жизни не достигала ста двадцати лет. — Девушка не любит таких разговоров.
— Только у горстки элиты! Расковыряли себе гормоны с желудком и живут припеваючи, травят природу-матушку дальше! — Старик почти кричит.
— Я тебя понимаю, — говорит Анна примирительно, тут же отчеканивает, — но средняя продолжительность жизни достигает семидесяти пяти лет для всех без исключения. Высокое качество жизни, отсутствие болезней, наполненность каждого дня. В какой исторический период люди жили лучше, Макар?
— Слышал я ваши ля-ля! А если не в среднем? Впахивать до шестидесяти лет на химии, потом сразу помирать — вот ваше качество жизни для простых людей!
— Знаешь, я тоже не со всем согласна. Но ведь правда, — она смотрит не на Макара, а в глубь леса за озером, — кому-то больше нравится иметь силы и здоровье, чтобы зарабатывать и тратить деньги до самой смерти, чем располагать большим количеством бесполезного времени в болезнях и нищете.
Анне хочется иногда здесь, с Макаром, разрешить себе подумать по-другому, да и друг ее в чем-то прав… Но только она начинает нащупывать внутри тревожащую и трепещущую нотку, следует очередной выпад старика:
— Больше нравится, ну-ну… Эти черти травят нормальных людей и природу антибиотиками и гормонами, а сами живут до ста двадцати в своих горных дворцах и деградируют! Поубивать бы всех этих паразитов, а лучше отобрать все их таблетки и заставить трудиться, вон пусть от пластика рыбьи кишки чистят!
— Перестань, пожалуйста… — Анна запинается, хочет добавить что-то теплое, вместо этого выпаливает, зная, что задевает друга, — это не твои компьютерные игры и не митинг за честные выборы — это настоящая жизнь, Макар.
Старик мнется, начинает говорить, замолкает. Анна повторяет хорошо заученные формулировки:
— Люди всегда тратят свои ресурсы на здоровье. Кто-то может позволить себе подкорректироваться и перейти в высший класс А или Б, жить до ста двадцати лет. Кто-то не может и остается обычным человеком, как ты говоришь, но тоже до самой смерти не болеет и радуется жизни. А ты… ты вот вообще живешь в лесу, варишь себе суп и колешь дрова. У каждого свой выбор, — голос слегка колеблется, как рябь озера, затем становится глухим, как всплеск от тяжелого камня. — Я, может, и хотела бы узнать, какой я была бы бабушкой, может, хотела бы быть мамой. Но сделала свой выбор и несу за него ответственность.
Девушка замолкает: всегда больно думать, что класс А может не работать и иметь детей, а ей не положено. Зато на службе она прикрывает Макара и его заповедный лес. Старик тоже смотрит на озеро, молчит, голова наклонилась низко, почти втянута в плечи, взгляд под водой. Опять не сдержался, наверняка обидел единственную свою радость и друга.
И тут Анна (она так редко, но делает) протягивает белый мизинчик и осторожно обнимает им один из его пальцев, смотрит по-хулигански. Макар не шевелится, шепчет смущенно: «Тебе же нельзя, заболеешь». Посидят так немного, она ещё пару раз сожмет мизинец на прощание и высвобождает руку. И минут пять со всех сторон светит на свои пальцы синей палочкой, улыбается виновато: «Прости». А он: «Да ничего, тебе же опасно: бактерии».
Потом, как обычно, идут в избушку, Макар накладывает себе каши или супа с травами, а его гостья садится за столом напротив, светит вокруг своей обеззараживающей палочкой, достает все из сумочки и запивает цветные капсулы водой из синей бутылки. Говорит зачем-то, раз третий или четвертый за последний год:
— Знаешь, я и правда думаю иногда, вот ушла бы к тебе в лес. — Видя довольного друга, добавляет: — Кстати, похоже, ты единственный, кто питается всем этим… едой, как раньше, и не умирает от аллергий. Да еще и пышешь здоровьем. Фантастика.
— Тебе уже нельзя, родная. — Старик горько улыбается своей невозможной мечте. — Зато ты такая красивая, вот смотрю на тебя.
— Ты тоже, такой настоящий… мой единственный в мире, — щурит глаза, — дедушка. — Анна проводит пальцами рядом с его щекой, гладит воздух. — Смешно, мы все же дожили до девяноста лет, оба. Могли ли подумать, когда было по двадцать пять?
Он протягивает ладонь к ее руке и останавливает за несколько сантиметров, держит, не касаясь, говорит бережно:
— Родная, только не обижайся… Но никак не пойму, зачем ты работаешь на их пропаганду? Неужели твои привилегии и гладкая кожа — достойная плата за отказ жить своей жизнью… быть собой? Ты же часто повторяешь, что у каждого есть выбор. Плюнь ты на эти высшие классы, делай что-то важное для себя, если уж будешь теперь жить до ста двадцати… или сколько там получится — уходи ты оттуда.
Анна вскакивает, улыбается, излучая энергию здоровья и благополучия в лучших традициях своего министерства социализации и просвещения.
— Мне пора, — быстро идет к двери, бросает уже оттуда, как обычно, — я не обижаюсь, кстати, просто мне пора, до скорого!
И она опять летит через чащу в свой город будущего, в жизнь, которую сама себе выбрала, шепчет в сторону избушки: «Класс А, класс Б… А как, по-твоему, мне разрешили оставаться замужем за тобой, мой родной?»
Москва, Санкт-Петербург, август-сентябрь 2019
Много дел — мало времени. Еще больше стараться приходится, когда наведывается особенная гостья из города. Тогда Макар про спорт и учебу не вспоминает, а работу, запланированную на день, переделывает до обеда. Сидит, ждёт на крылечке, и в снег тоже, наматывает длинную белую бороду на тонкую шершавую ладонь.
Вот она вырывается из чащи на машине, каждый год все более диковинной и обтекаемой, выпрыгивает, бежит по полянке — легкая, румяная, весенняя. Встанет у крылечка, а вокруг радуется воздух, даже если тучи или метель и солнца быть не может. Макар смотрит немного на гостью, тоже улыбаясь, глубже впечатывая давние морщины вокруг рта и глаз, потом зовёт ее на озеро или в дом.
Старик называет ее Аннушкой. Сегодня солнечно и зелено, сидят они у воды, как всегда, то говорят о чем-то долго, то молчат. Макар кидает круглые камушки по облачной глади озера, поглядывает на девушку; та аккуратно сидит на иссиня-белой подстилке, теребит в руках поблескивающую палочку, смотрит то на старика, то на деревья вдали. Уставать или хандрить, не быть веселой и общительной стыдно — но в своем секретном местечке она отключает все гаджеты, обмениваться энергией хочет только с природой и диковинным другом. В дремучем лесу, посреди опасных бактерий — коллеги и соседи посчитали бы бесстрашной или безумной, но не узнают. Лишь мерцает озеро и ласково улыбается ее мудрый друг: смотрит подолгу, потянет к ее плечу руку, но вовремя одумается и отдернет, возьмет еще один камушек с берега.
Рано или поздно разговор их сводится к вечному, Макар отчего-то закипает:
— Это тогда мы нашу страну слили к чертям! Где свобода личности, я спрашиваю? Где экология? Где равенство? В ауте, полном!
Девушка устало закатывает глаза к небу, прикрывает веки рукой, шепчет:
— Давай не будем. Смотри, какие облака красивые.
— Аннушка, скажи, ну разве нет? В полном же ауте страна, планета в ауте!
— Я действительно не хочу… Но хорошо, если смотреть на факты, то никогда еще продолжительность жизни не достигала ста двадцати лет. — Девушка не любит таких разговоров.
— Только у горстки элиты! Расковыряли себе гормоны с желудком и живут припеваючи, травят природу-матушку дальше! — Старик почти кричит.
— Я тебя понимаю, — говорит Анна примирительно, тут же отчеканивает, — но средняя продолжительность жизни достигает семидесяти пяти лет для всех без исключения. Высокое качество жизни, отсутствие болезней, наполненность каждого дня. В какой исторический период люди жили лучше, Макар?
— Слышал я ваши ля-ля! А если не в среднем? Впахивать до шестидесяти лет на химии, потом сразу помирать — вот ваше качество жизни для простых людей!
— Знаешь, я тоже не со всем согласна. Но ведь правда, — она смотрит не на Макара, а в глубь леса за озером, — кому-то больше нравится иметь силы и здоровье, чтобы зарабатывать и тратить деньги до самой смерти, чем располагать большим количеством бесполезного времени в болезнях и нищете.
Анне хочется иногда здесь, с Макаром, разрешить себе подумать по-другому, да и друг ее в чем-то прав… Но только она начинает нащупывать внутри тревожащую и трепещущую нотку, следует очередной выпад старика:
— Больше нравится, ну-ну… Эти черти травят нормальных людей и природу антибиотиками и гормонами, а сами живут до ста двадцати в своих горных дворцах и деградируют! Поубивать бы всех этих паразитов, а лучше отобрать все их таблетки и заставить трудиться, вон пусть от пластика рыбьи кишки чистят!
— Перестань, пожалуйста… — Анна запинается, хочет добавить что-то теплое, вместо этого выпаливает, зная, что задевает друга, — это не твои компьютерные игры и не митинг за честные выборы — это настоящая жизнь, Макар.
Старик мнется, начинает говорить, замолкает. Анна повторяет хорошо заученные формулировки:
— Люди всегда тратят свои ресурсы на здоровье. Кто-то может позволить себе подкорректироваться и перейти в высший класс А или Б, жить до ста двадцати лет. Кто-то не может и остается обычным человеком, как ты говоришь, но тоже до самой смерти не болеет и радуется жизни. А ты… ты вот вообще живешь в лесу, варишь себе суп и колешь дрова. У каждого свой выбор, — голос слегка колеблется, как рябь озера, затем становится глухим, как всплеск от тяжелого камня. — Я, может, и хотела бы узнать, какой я была бы бабушкой, может, хотела бы быть мамой. Но сделала свой выбор и несу за него ответственность.
Девушка замолкает: всегда больно думать, что класс А может не работать и иметь детей, а ей не положено. Зато на службе она прикрывает Макара и его заповедный лес. Старик тоже смотрит на озеро, молчит, голова наклонилась низко, почти втянута в плечи, взгляд под водой. Опять не сдержался, наверняка обидел единственную свою радость и друга.
И тут Анна (она так редко, но делает) протягивает белый мизинчик и осторожно обнимает им один из его пальцев, смотрит по-хулигански. Макар не шевелится, шепчет смущенно: «Тебе же нельзя, заболеешь». Посидят так немного, она ещё пару раз сожмет мизинец на прощание и высвобождает руку. И минут пять со всех сторон светит на свои пальцы синей палочкой, улыбается виновато: «Прости». А он: «Да ничего, тебе же опасно: бактерии».
Потом, как обычно, идут в избушку, Макар накладывает себе каши или супа с травами, а его гостья садится за столом напротив, светит вокруг своей обеззараживающей палочкой, достает все из сумочки и запивает цветные капсулы водой из синей бутылки. Говорит зачем-то, раз третий или четвертый за последний год:
— Знаешь, я и правда думаю иногда, вот ушла бы к тебе в лес. — Видя довольного друга, добавляет: — Кстати, похоже, ты единственный, кто питается всем этим… едой, как раньше, и не умирает от аллергий. Да еще и пышешь здоровьем. Фантастика.
— Тебе уже нельзя, родная. — Старик горько улыбается своей невозможной мечте. — Зато ты такая красивая, вот смотрю на тебя.
— Ты тоже, такой настоящий… мой единственный в мире, — щурит глаза, — дедушка. — Анна проводит пальцами рядом с его щекой, гладит воздух. — Смешно, мы все же дожили до девяноста лет, оба. Могли ли подумать, когда было по двадцать пять?
Он протягивает ладонь к ее руке и останавливает за несколько сантиметров, держит, не касаясь, говорит бережно:
— Родная, только не обижайся… Но никак не пойму, зачем ты работаешь на их пропаганду? Неужели твои привилегии и гладкая кожа — достойная плата за отказ жить своей жизнью… быть собой? Ты же часто повторяешь, что у каждого есть выбор. Плюнь ты на эти высшие классы, делай что-то важное для себя, если уж будешь теперь жить до ста двадцати… или сколько там получится — уходи ты оттуда.
Анна вскакивает, улыбается, излучая энергию здоровья и благополучия в лучших традициях своего министерства социализации и просвещения.
— Мне пора, — быстро идет к двери, бросает уже оттуда, как обычно, — я не обижаюсь, кстати, просто мне пора, до скорого!
И она опять летит через чащу в свой город будущего, в жизнь, которую сама себе выбрала, шепчет в сторону избушки: «Класс А, класс Б… А как, по-твоему, мне разрешили оставаться замужем за тобой, мой родной?»
Москва, Санкт-Петербург, август-сентябрь 2019
Дания Жанси родилась в Ташкенте. Печаталась в журналах «Прочтение», «Идель», «Казань»,
«ArtPrivе». В 2018 году окончила летнюю школу по Creative Writing Оксфордского универси-
тета. В 2016—2019 годах проходила ряд онлайн- и очных курсов школы Creative Writing School
Майи Кучерской. Пишет рассказы на русском и английском языках.
«ArtPrivе». В 2018 году окончила летнюю школу по Creative Writing Оксфордского универси-
тета. В 2016—2019 годах проходила ряд онлайн- и очных курсов школы Creative Writing School
Майи Кучерской. Пишет рассказы на русском и английском языках.